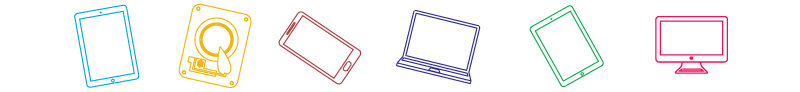Когда в 1572 году в возрасте 38 лет Мишель де Монтень удалился в свое родовое поместье, он говорит нам, что хотел написать свои знаменитые "Эссе", чтобы отвлечь свой праздный ум. Он не хотел и не ожидал, что люди за пределами его круга друзей будут слишком заинтересованы.
Предисловие к "Эссе" почти предостерегает нас: "Читатель, перед тобой честная книга; ... при ее написании я не ставил перед собой никакой иной цели, кроме домашней и личной. Я совершенно не думал ни о вашей службе, ни о своей славе... Таким образом, читатель, я сам являюсь предметом моей книги: нет никакой причины, чтобы вы тратили свой досуг на столь легкомысленный и пустой предмет. Поэтому прощайте."
Последующие свободные эссе, хотя и пропитанные классической поэзией, историей и философией, несомненно, являются чем-то новым в истории западной мысли. Для своего времени они были почти скандальными.
Никто до Монтеня в западном каноне не думал посвящать страницы таким разнообразным и, казалось бы, незначительным темам, как "О запахах", "Об обычае носить одежду", "О письмах", "О пальцах" или "О сне" - не говоря уже о размышлениях о непослушности мужского придатка, тема, которая неоднократно волновала его.
Французский философ Жак Рансьер недавно утверждал, что модернизм начался с открытия мирского, частного и обыденного для художественной обработки. Современное искусство больше не ограничивает свои темы классическими мифами, библейскими сказаниями, битвами и сделками принцев и прелатов.
Если Рансьер прав, то можно сказать, что 107 "Эссе" Монтеня, каждое из которых состоит из нескольких сотен слов и (в одном случае) нескольких сотен страниц, приблизились к изобретению модернизма в конце XVI века.
Монтень часто извиняется за то, что так много пишет о себе. В конце концов, он всего лишь второсортный политик и одно время мэр Бурдо. С почти сократовской иронией он больше всего рассказывает о своих собственных привычках писать в эссе под названием "О самомнении", "О даче лжи", "О тщеславии" и "О раскаянии".
Но смысл последнего эссе заключается в том, что нет, я не жалею ни о чем, как пела более современная французская икона: "Если бы я прожил свою жизнь заново, я бы прожил ее так же, как прожил; я не жалуюсь на прошлое и не боюсь будущего; и если я не сильно обманываюсь, я такой же внутри, как и снаружи... Я видел траву, цветение и плод, а теперь вижу увядание; счастливо, однако, потому что естественно."
Упорство Монтеня в сборе своего необыкновенного досье историй, аргументов, отступлений и наблюдений почти обо всем под солнцем, от того, как вести переговоры с врагом, до того, должны ли женщины быть столь сдержанными в вопросах секса, было отмечено поклонниками почти во всех поколениях.
В течение десятилетия после его смерти его "Эссе" оставили свой след в творчестве Бэкона и Шекспира. Он был героем для просветителей Монтескье и Дидро. Вольтер прославил Монтеня - человека, получившего образование только благодаря собственному чтению, отцу и своим детским наставникам - как "наименее методичного из всех философов, но самого мудрого и приятного". Ницше утверждал, что само существование "Эссе" Монтеня добавляет радости жизни в этом мире.
Совсем недавно книга Сары Бейквелл "Как жить, или жизнь Монтеня в одном вопросе и двадцати попытках ответа" (2010) попала в списки бестселлеров. Даже сегодняшние инициативы по преподаванию философии в школах могут обратиться к Монтеню (и его "О воспитании детей") как к святому покровителю или мудрецу.
Так что же представляют собой эти "Эссе", которые, как утверждал Монтень, неотличимы от своего автора? ("Моя книга и я идем рука об руку вместе").
Это хороший вопрос.
Каждый, кто пытается читать "Эссе" систематически, вскоре оказывается ошеломлен огромным количеством примеров, анекдотов, отступлений и курьезов, которые Монтень собирает для нашего удовольствия, зачастую не имея даже намека на причину.
Открыть книгу - значит войти в мир, где удача постоянно опровергает ожидания; наши чувства так же неопределенны, как и наше понимание, склонное к ошибкам; противоположности очень часто оказываются соединенными ("самое универсальное качество - это разнообразие"); даже порок может привести к добродетели. Многие заголовки, кажется, не имеют прямого отношения к содержанию. Почти все, что наш автор говорит в одном месте, в другом месте оговорено, если не отменено.
Не претендуя на то, чтобы распутать все узлы этой "книги с диким и отчаянным планом", позвольте мне потянуть за пару нитей Монтеня, чтобы пригласить и помочь новым читателям найти свой собственный путь.
Философия (и писательство) как образ жизни
Некоторые ученые утверждали, что Монтень начал писать свои эссе как стоик, закаляясь от ужасов французских гражданских и религиозных войн, а также от горя, вызванного смертью от дизентерии своего лучшего друга Этьена де Ла Боэти.

Безусловно, для Монтеня, как и для античных мыслителей во главе с его любимцами, Плутархом и римским стоиком Сенекой, философия была не только построением теоретических систем, написанием книг и статей. Это было то, что один из недавних почитателей Монтеня назвал "образом жизни".
У Монтеня мало времени для тех форм педантизма, которые ценят обучение как средство изолировать ученых от мира, а не открывать их миру. Он пишет: "Либо наш разум насмехается над нами, либо у него не должно быть другой цели, кроме нашего удовлетворения."
Действительно: "Мы большие глупцы. "Он прожил свою жизнь в праздности", - говорим мы: "Я сегодня ничего не сделал". Что? Разве вы не жили? Это не только основное, но и самое выдающееся из всех ваших занятий."
Одной из особенностей "Эссе" является, соответственно, увлечение Монтеня повседневными делами таких людей, как Сократ и Катон Младший, двух из тех фигур, которые почитались среди древних как мудрецы.
Их мудрость, по его мнению, проявлялась главным образом в жизни, которую они вели (ни один из них ничего не написал). В частности, она проявилась в благородстве, с которым каждый из них встретил свою смерть. Сократ спокойно согласился принять болиголов, будучи несправедливо приговоренным афинянами к смерти. Катон заколол себя ножом после размышлений над примером Сократа, чтобы не поддаться государственному перевороту Юлия Цезаря.
Для достижения такого "философского" постоянства, по мнению Монтеня, требуется нечто большее, чем изучение книг. Действительно, все, что связано с нашими страстями и, прежде всего, с нашим воображением, говорит против достижения того совершенного спокойствия, которое классики считали высшей философской целью.
Свои надежды и страхи мы очень часто направляем не на те объекты, отмечает Монтень в наблюдении, которое предвосхищает мысли Фрейда и современную психологию. Всегда эти эмоции сосредоточены на вещах, которые мы не можем изменить в настоящий момент. Иногда они препятствуют нашей способности видеть и гибко реагировать на меняющиеся требования жизни.
Философия, с этой классической точки зрения, включает в себя переобучение наших способов мышления, видения и существования в мире. Раннее эссе Монтеня "Философствовать - значит научиться умирать", возможно, является самым ярким примером его долга перед этой древней идеей философии.
Тем не менее, существует сильное ощущение, что все "Эссе" представляют собой форму того, что один автор 20-го века назвал "самоописанием": этическое упражнение, направленное на "укрепление и просвещение" собственных суждений Монтеня, а также наших читателей: "И хотя меня никто не должен читать, разве я тратил время впустую, проводя столько праздных часов в столь приятных и полезных размышлениях? ...Я не больше создал свою книгу, чем моя книга создала меня: это книга, созвучная автору, особого замысла, частица моей жизни..."
Что касается кажущегося беспорядка продукта и частых заявлений Монтеня о том, что он играет в дурака, то это, пожалуй, еще одна особенность "Эссе", отражающая его сократовскую иронию. Монтень хочет оставить нас с некоторым трудом и размахом, чтобы мы сами нашли пути в лабиринте его мыслей, или, наоборот, покачались на их отвлекающих поверхностях.
Свободомыслящий скептик
И все же "Эссе" Монтеня, при всем их классицизме и идиосинкразии, по праву считаются одним из основополагающих текстов современной мысли. Их автор сохраняет свои собственные прерогативы, даже если он почтительно склоняется перед алтарями античных героев, таких как Сократ, Катон, Александр Македонский или фиванский полководец Эпаминондас.
В творчестве Монтеня много христианского, августиновского наследия. И из всех философов он чаще всего повторяет античных скептиков, таких как Пирр или Карнеад, которые утверждали, что мы почти ничего не можем знать с уверенностью. Это особенно верно в отношении "окончательных вопросов", по которым вели кровопролитную борьбу католики и гугеноты времен Монтеня.
Монтень, писавший во времена жестокого насилия на религиозной почве, не убежден в извечном утверждении, что догматическая вера необходима или особенно эффективна для того, чтобы помочь людям любить своих ближних: "Между нами, я всегда замечал, что небесные мнения и подземные манеры находятся в исключительном согласии..."
Этот скептицизм относится как к языческому идеалу совершенного философского мудреца, так и к теологическим спекуляциям.
Постоянство Сократа перед смертью, заключает Монтень, было просто слишком требовательным для большинства людей, почти сверхчеловеческим. Что касается гордого самоубийства Катона, Монтень берет на себя смелость усомниться в том, что оно было результатом не только стоического спокойствия, но и особого склада ума, который мог наслаждаться такой крайней добродетелью.
Действительно, когда дело доходит до его эссе "Об умеренности" или "О добродетели", Монтень спокойно нарушает античную лепту. Вместо того чтобы восхвалять подвиги Катонов и Александров, он перечисляет пример за примером людей, которых чувство трансцендентной самоправедности подтолкнуло к убийству или самоубийству.
Даже добродетель может стать порочной, говорится в этих эссе, если только мы не знаем, как умерить свои предрассудки.
О каннибалах и жестокости
Если и есть одна форма аргументации, которую Монтень использует чаще всего, то это скептический аргумент, опирающийся на разногласия между даже самыми мудрыми авторитетами.
Если бы люди могли знать, является ли, скажем, душа бессмертной, существует ли она вместе с телом или без него, растворяется ли она после смерти... то самые мудрые люди уже давно пришли бы к одним и тем же выводам, говорится в аргументе. Однако даже "самые знающие" авторитеты расходятся во мнениях относительно таких вещей, с удовольствием показывает нам Монтень.
Существование такой "бесконечной путаницы" мнений и обычаев перестает быть для Монтеня проблемой. Оно указывает путь к новому виду решения и может фактически просветить нас.
Документирование таких многообразных различий между обычаями и мнениями является для него воспитанием смирения: "Манеры и мнения, противоречащие моим, не столько возмущают, сколько наставляют меня; не столько заставляют меня гордиться, сколько смиряют меня."
В его эссе "О каннибалах", например, представлены все различные аспекты культуры американских индейцев, известные Монтеню из отчетов путешественников, которые затем попали в Европу. В большинстве своем он считает, что общество этих "дикарей" с этической точки зрения равноценно, если не намного превосходит общество разоренной войной Франции - точка зрения, которую Вольтер и Руссо повторят почти 200 лет спустя.
Мы приходим в ужас от перспективы съесть наших предков. Однако Монтень представляет себе, что с точки зрения индейцев западная практика кремации наших умерших или захоронения их тел для пожирания червями должна казаться не менее бессердечной.
И раз уж мы об этом заговорили, Монтень добавляет, что поедание людей после их смерти кажется гораздо менее жестоким и бесчеловечным, чем пытки людей, о которых мы даже не подозреваем, что они виновны в каком-либо преступлении, пока они еще живы...
Мудрость геев и общительность
"Так что же остается?", - может спросить читатель, пока Монтень подрывает одно предположение за другим и нагромождает исключения, словно они стали единственным правилом.
Очень многое - таков ответ. Поскольку метафизика, теология и подвиги богоподобных мудрецов находятся в состоянии "приостановки суждения", читая "Эссе", мы становимся свидетелями ключевого документа в современной переоценке и валоризации повседневной жизни.
Например, скандально демотическая привычка Монтеня переплетать слова, истории и действия своих соседей, местных крестьян (и крестьянок), с примерами из великой христианской и языческой истории. Как он пишет: "В свое время я знал сотню ремесленников, сотню рабочих, более мудрых и счастливых, чем ректоры университета, на которых я предпочел бы походить."
К концу "Очерков" Монтень начинает открыто говорить о том, что если спокойствие, постоянство, храбрость и честь - это те цели, которые ставят перед нами мудрые, то все это можно увидеть в гораздо большем изобилии среди соли земли, чем среди богатых и знаменитых: "Я предлагаю жизнь обычную и без блеска: все едино... Вступить в нарушение, вести посольство, управлять народом - действия известные; ... смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть, мягко и справедливо разговаривать с собственными семьями и с самим собой... не выдавать себя ложью, что реже, труднее и менее замечательно..."
И вот в этих последних эссе мы приходим к настроению, более известному сегодня у другого философа, Фридриха Ницше, автора книги "Наука о геях" (1882).
В заключительных эссе Монтеня повторяется утверждение, что: "Я люблю голубую и гражданскую мудрость ....". Но в отличие от его более позднего германского поклонника, музыка здесь не столько Вагнера или Бетховена, сколько Моцарта, а дух Монтеня не столько мучительный, сколько безмятежный.
Еще Вольтер сказал, что жизнь - это трагедия для тех, кто чувствует, и комедия для тех, кто думает. Монтень принимает и восхищается комической перспективой. Как он пишет в "Опыте": "Не очень-то полезно ходить на ходулях, потому что, находясь на ходулях, мы все равно должны ходить ногами, а сидя на самом возвышенном троне в мире, мы все равно сидим на своих собственных задницах."

Можно подумать, что физики "решили" проблему пространства. Математик Герман Минковский и физик Альберт Эйнштейн научили нас воспринимать пространство и время как единый континуум, что помогло нам понять, как движутся очень большие и очень маленькие объекты, такие как отдельные атомы. Тем не менее, мы так и не решили вопрос о том, что такое пространство. Если высосать всю материю из Вселенной, останется ли после этого пространство?
Физика двадцать первого века, вероятно, совместима с двумя очень разными представлениями о пространстве: "реляционизм" и "абсолютизм". Оба эти взгляда обязаны своей популярностью Каролине Ансбахской (1683-1737), королеве Великобритании немецкого происхождения, которая ввязалась в философские течения, бурлившие вокруг нее.
Каролина была увлеченным философом, и в начале XVIII века она задумала столкнуть между собой ведущие философские направления своей эпохи. На континенте философы застряли в "рационализме", размышляя над теориями мира, сидя в креслах. Тем временем британские философы развивали вдохновленный наукой "эмпиризм" - теории, построенные на наблюдениях. Они поклонялись таким ученым, как Роберт Бойль и Исаак Ньютон.
Каролина попросила двух философов обменяться письмами. Одним из них был немецкий философ Готфрид Лейбниц, рационалист первой величины. Другим был английский философ Самуэль Кларк, близкий друг Ньютона. Оба человека согласились, и их обмен мнениями был опубликован в 1717 году под названием "Собрание сочинений". Скучное название звучит не так уж громко, но эти работы были революционными. И одним из центральных вопросов в них был вопрос о природе пространства.
Все или ничего?
Есть ли пространство между звездами? Реляционист Лейбниц утверждал, что пространство - это пространственные отношения между объектами. Австралия находится "южнее" Сингапура. Дерево находится "в трех метрах слева" от куста. Шон Спайсер находится "позади" куста. Это означает, что пространство не может существовать независимо от вещей, которые оно соединяет. По Лейбницу, если бы ничего не существовало, то не могло бы быть никаких пространственных отношений. Если бы наша Вселенная была уничтожена, пространства бы не существовало.
В отличие от него, абсолютист Кларк утверждал, что пространство - это некая субстанция, которая находится везде. Пространство - это гигантский контейнер, содержащий все вещи во Вселенной: звезды, планеты, нас. Пространство позволяет нам понять, как вещи перемещаются из одного места в другое, как вся наша материальная вселенная может перемещаться в пространстве. Более того, Кларк утверждал, что пространство божественно: пространство - это присутствие Бога в мире. В некотором смысле, пространство и есть Бог. По мнению Кларка, если бы наша вселенная была уничтожена, пространство осталось бы. Как нельзя удалить Бога, так нельзя удалить и пространство.
Письма Лейбница-Кларка взорвали мысль начала XVIII века. Такие мыслители, как Ньютон, которые уже были вовлечены в дебаты, были втянуты в них еще глубже. Ньютон утверждал, что пространство - это нечто большее, чем отношения между материальными объектами. Он утверждал, что оно является абсолютной сущностью, что все движется относительно него. Это привело к различию между "относительным" и "абсолютным" движением. Земля движется относительно других материальных объектов, таких как Солнце, но она также движется абсолютно - относительно пространства.
Другие присоединились к этой партии позже, например, Иммануил Кант. Он считал, что пространство - это всего лишь концепция, которую люди используют для осмысления мира, а не реальная сущность. Не только философы и физики имели свои взгляды на космос. Свое мнение высказывали самые разные люди, от производителей чулок до фермеров-арендаторов.
Люди особенно остро реагировали на мнение Кларка о том, что пространство - это Бог. Значит ли это, что мы все время движемся сквозь Бога? Бог не просто все видит, он везде? Их также беспокоили Большие вещи. Если кит занимает больше места, чем святой человек, то является ли кит более святым? Поскольку горы такие большие, похожи ли они на Бога?

Я думаю, что могу быть гедонистом. Представляете, как я нюхаю кокаин через стодрублевые купюры, в одной руке бокал шампанского, а другой ласкаю упругое бедро незнакомки? Прежде чем вы сурово осудите меня, я знаю, что у гедонизма плохая репутация, но, возможно, пришло время пересмотреть свои взгляды.
Что если вместо гарантированной дороги к разорению гедонизм полезен для здоровья? Если рассматривать гедонизм как намеренное наслаждение простыми удовольствиями - такими как игра в опавших листьях, моменты общения с друзьями или объятия с собакой, - то, вероятно, так оно и есть. Поиск и максимизация этих видов удовольствий может укрепить наше здоровье и благополучие.
Откуда же взялись наши представления о гедонизме и как мы можем использовать гедонизм для улучшения нашего здоровья и качества жизни?
В широком смысле гедонист - это человек, который старается максимизировать удовольствие и минимизировать боль. Джордан Белфорт (в исполнении Леонардо Ди Каприо) в фильме "Волк с Уолл-стрит", вероятно, является популярным представлением о квинтэссенциальном гедонисте, поскольку его огромное богатство позволяет ему потакать своей ненасытной жажде всего приятного.
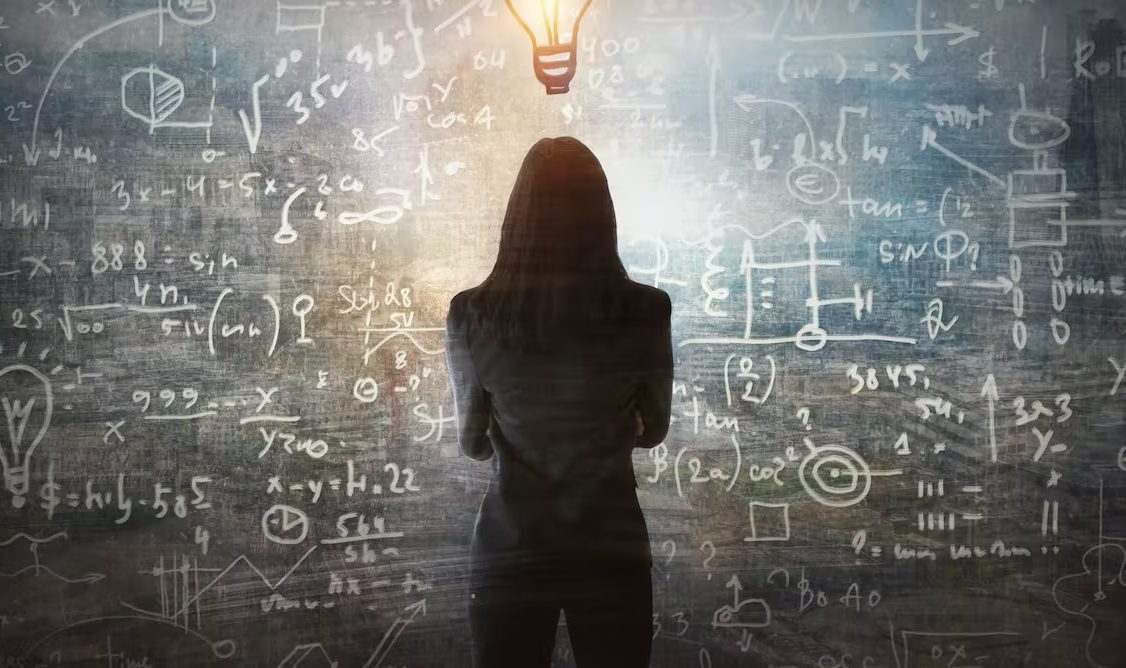
Но кое-что должно произойти до этого. Весь этот процесс основывается на жизненно важной, необходимой, драгоценной способности зародить эти идеи. И, к сожалению, мы очень мало говорим об этом творческом ядре науки: воображении того, какими могут быть невидимые структуры в мире.
Мы должны быть более открытыми в этом вопросе. Мне неоднократно доводилось слышать от школьников, что их оттолкнуло от науки то, "что там не было места для моего собственного творчества". Что же мы сделали для того, чтобы у них сложилось такое шаблонное представление о том, как работает наука?
Наука и поэзия
Биолог XX века Питер Медавар был одним из немногих авторов последнего времени, кто вообще обсуждал роль творчества в науке. Он утверждал, что мы тихо стыдимся этого, потому что имагинативная фаза науки вообще не имеет "метода".
Медавар столь же критично относится к легкомысленным сравнениям научного творчества с источниками художественного вдохновения. Потому что в то время, как источники художественного вдохновения часто передаются - "путешествуют" - научное творчество в значительной степени является частным. Ученые, утверждает он, в отличие от художников, не делятся своими предварительными фантазиями или моментами вдохновения, а только отшлифованными результатами завершенных исследований.
Что, если Медавар прав. По большому счету поэты по-прежнему не пишут о науке. Наука также не является "объектом созерцания", как выразился историк Жак Барзун. Однако те немногие ученые, которые рассказывали о своем опыте формулировки новых идей, не сомневаются в его созерцательной и творческой сущности. Эйнштейн в своей книге "Эволюция физики", написанной совместно с физиком Леопольдом Инфельдом: “Воображение важнее знаний. Знания ограничены. Воображение охватывает весь мир.”
Истории о творчестве
Я попросил знакомых мне ученых рассказать не только о результатах своих исследований, но и о том, как они к ним пришли. В качестве своего рода "контрольного эксперимента" я проделал то же самое с поэтами, композиторами и художниками.
Я читал рассказы о творчестве в математике, написании романов, искусстве, а также участвовал в двухдневном семинаре по творчеству с физиками и космологами. Философия, от средневековой до феноменологии 21-го века, может многое добавить.
Из всех этих историй возник другой способ думать о том, чего достигает наука и где она находится в нашей долгой человеческой истории - не только как путь к знаниям, но и как созерцательная практика, которая удовлетворяет человеческие потребности, дополняя искусство или музыку. Прежде всего, я не мог отрицать, что личные истории создания нового тесно примыкают друг к другу, будь то попытка создать серию произведений искусства из смешанных материалов, отражающих страдания войны, или желание узнать, какое астрономическое событие привело к появлению беспрецедентных рентгеновских и радиосигналов.
Общий контур повествования о мелькающей и желаемой цели, борьбе за ее достижение, переживании ограничений и тупиков, и даже загадочные моменты "ага", которые говорят о скрытых и подсознательных процессах мышления, выбирающих свои моменты для передачи в наше сознание - все это история, общая как для ученых, так и для художников.
Возникли три "способа" воображения, которыми пользуются и наука, и искусство: визуальный, текстовый и абстрактный. Мы мыслим картинками, словами и абстрактными формами, которые мы называем математикой и музыкой. Для меня становится все более очевидным, что разделение "двух культур" между гуманитарными и естественными науками - это искусственное изобретение конца 19 века. Возможно, лучший способ решить эту проблему - просто игнорировать ее и начать больше разговаривать друг с другом.

Это первый пункт Хартии сострадания. Хартия была разработана в 2008 году под руководством Карен Армстронг, бывшей монахини. Она использовала средства, полученные от премии за лучший доклад на TED в 2008 году, для создания международной рабочей группы по разработке хартии.
В 2010 году австралийский парламент стал первым парламентом в мире, признавшим Хартию сострадания.
Учитывая политический подход, выработанный сменявшими друг друга австралийскими правительствами к людям, ищущим убежища в этой стране, кажется, что проще подписать такие документы, чем воплотить в жизнь принципы, лежащие в их основе.
Сегодня более 270 городов и сообществ по всей Азии, Европе, Канаде, США и Африке (включая Мельбурн и Сидней) используют хартию для построения нового видения своего общества. Движимые древним и универсальным "золотым правилом" - относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, - сообщества людей по всему миру берут на себя обязательства сделать сострадание движущей силой, оказывающей заметное влияние на жизнь общества и на благополучие всех его членов.
Техническая поддержка проекта ВсеТут