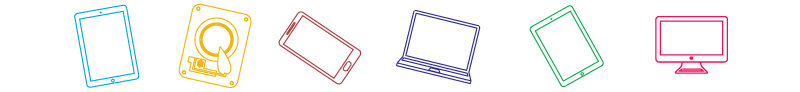Либеральные демократии построены на свободе личности. То есть, свобода человека действовать более или менее по своему усмотрению, если это не вредит другим. Сегодня мы воспринимаем эту свободу как нечто само собой разумеющееся, но исторически она является новаторской.
В большинстве обществ на протяжении всей истории человечества то, как взрослые люди по обоюдному согласию ведут себя в уединении своего дома, считалось делом их соседей или государства в той же степени, что и их собственным.
Признание индивидуальной автономии было постепенным достижением, которое произошло в некоторых сферах раньше, чем в других (еще в 1997 году гомосексуальные отношения были уголовным преступлением в Тасмании).
Многие люди рассматривают добровольную эвтаназию как последний рубеж в постепенном расширении автономии. Мы имеем право распоряжаться своим телом как угодно в вопросах сексуальности, если это не вредит другим.
Поэтому мы также должны иметь право распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. В более узком смысле, когда мы страдаем и не имеем разумных перспектив на выздоровление от неизлечимой болезни, многие люди считают, что мы должны иметь возможность выбрать прекращение страданий.
Они выступают за самоубийство с помощью врача (СПВ), которое обычно предполагает назначение врачами смертельных препаратов компетентным пациентам, желающим покончить с жизнью.
В избитых дебатах о PAS одно соображение не получило того внимания, которого, на мой взгляд, оно заслуживает. Интуитивно мы считаем, что предложение кому-либо выбора автоматически расширяет его свободу. Но это не всегда так. Иногда больше вариантов может привести к уменьшению свободы.
Парадокс выбора
Существует много психологической литературы о парадоксе выбора. Она показывает, что большее количество вариантов выбора между хорошими вариантами может привести к беспокойству. Иногда слишком большое количество вариантов приводит к параличу. Например, люди с меньшей вероятностью купят варенье, если им предложат 24 вкуса, чем шесть.
Выбор требует усилий. Он требует умственных усилий. Слишком много вариантов, и усилия могут оказаться слишком тяжелыми. А когда мы сталкиваемся с решением о конце жизни, усилия могут оказаться непосильными.

В такой ситуации ставки высоки. Варианты могут быть сложными для понимания. А человек, который должен сделать выбор, может быть растерян, испытывать стресс, усталость или боль. Все это условия, которые делают выбор еще более трудным.
В такой ситуации мы, скорее, хотим иметь меньше вариантов, чем больше. А возможность покончить с собственной жизнью может стать бременем.
Бремя может быть большим по другой причине. Когда нам предоставляется возможность покончить с жизнью, то вопрос о том, будем ли мы жить дальше, теперь зависит от нас. А когда что-то зависит от нас, нам, возможно, придется оправдывать это перед собой и другими.
Если у меня нет возможности покончить с жизнью, то мне не нужно оправдываться, я просто продолжаю жить. Но если теперь я могу выбирать, то меня вполне могут спросить о причинах продолжения жизни, так же как и о причинах ее прекращения.
По этой причине возможность прекратить жизнь может восприниматься мною как бремя. Теперь я должен спросить себя: "Какое право я имею навязывать моей семье недели или месяцы дополнительного стресса? Какое право я имею на эти скудные медицинские ресурсы?".
Как предположил профессор философии Дэвид Веллеман (аргументы которого я только что кратко изложил), наличие другого варианта в данном случае может сделать меня хуже и менее свободным для того, что я действительно ценю, чем его отсутствие.
Не для всех одинаково
Конечно, то же самое можно сказать и обо всех нас. Например, самоубийство уже давно декриминализировано. Поэтому можно подумать, что все мы сейчас несем бремя оправдания своего существования от момента к моменту (некоторые экзистенциалисты утверждают, что так было всегда).
Но смертельно больные люди особенно уязвимы, потому что их могут воспринимать как бремя для других. В обществе, которое оценивает людей в соответствии с их экономическим вкладом, они могут (возможно, справедливо) считать свое существование неоправданным.
Хотя я считаю, что это соображение стоит принять всерьез, я не думаю, что его достаточно для того, чтобы утверждать, что PAS - это неправильно. Нам необходимо обратиться к реальному опыту тех стран, где эвтаназия была легализована. Данные из Бельгии, Нидерландов и Орегона не позволяют предположить, что это соображение сыграло заметную роль в принятии людьми решений о прекращении жизни.
Необходимо также задать вопрос о том, какого рода доказательств достаточно, чтобы показать, что закон неэтичен. Многие люди, занимающиеся биоэтикой, похоже, неявно предполагают, что если был хоть один случай, когда кто-то прекратил жизнь, которая была достойна жизни, таким способом, то PAS неэтична.
Но это предположение должно быть поставлено под сомнение. Потому что если большинству людей лучше от того, что у них есть возможность выбора, то тот факт, что некоторым хуже, не говорит о том, что мы должны убрать эту возможность для всех. Мы не запрещаем медицину, потому что существуют ятрогенные заболевания, которые возникают в результате лечения некоторых людей.
Однако, как напоминает нам Дэвид Веллеман, социальный контекст, в котором предлагается тот или иной вариант, имеет значение для того, насколько он ценен. Орегон в некотором смысле нетипичен для США, а Бельгия и Нидерланды сильно отличаются от Великобритании или Австралии.
Если верно, что ПАС разрешена там, то из этого не следует, что она будет разрешена везде и всегда. Мы должны внимательно следить за данными, которые они нам предоставляют, чтобы лучше понять, что делает PAS достойной опцией, а что может стать ограничением нашей свободы.

Можно подумать, что физики "решили" проблему пространства. Математик Герман Минковский и физик Альберт Эйнштейн научили нас воспринимать пространство и время как единый континуум, что помогло нам понять, как движутся очень большие и очень маленькие объекты, такие как отдельные атомы. Тем не менее, мы так и не решили вопрос о том, что такое пространство. Если высосать всю материю из Вселенной, останется ли после этого пространство?
Физика двадцать первого века, вероятно, совместима с двумя очень разными представлениями о пространстве: "реляционизм" и "абсолютизм". Оба эти взгляда обязаны своей популярностью Каролине Ансбахской (1683-1737), королеве Великобритании немецкого происхождения, которая ввязалась в философские течения, бурлившие вокруг нее.
Каролина была увлеченным философом, и в начале XVIII века она задумала столкнуть между собой ведущие философские направления своей эпохи. На континенте философы застряли в "рационализме", размышляя над теориями мира, сидя в креслах. Тем временем британские философы развивали вдохновленный наукой "эмпиризм" - теории, построенные на наблюдениях. Они поклонялись таким ученым, как Роберт Бойль и Исаак Ньютон.
Каролина попросила двух философов обменяться письмами. Одним из них был немецкий философ Готфрид Лейбниц, рационалист первой величины. Другим был английский философ Самуэль Кларк, близкий друг Ньютона. Оба человека согласились, и их обмен мнениями был опубликован в 1717 году под названием "Собрание сочинений". Скучное название звучит не так уж громко, но эти работы были революционными. И одним из центральных вопросов в них был вопрос о природе пространства.
Все или ничего?
Есть ли пространство между звездами? Реляционист Лейбниц утверждал, что пространство - это пространственные отношения между объектами. Австралия находится "южнее" Сингапура. Дерево находится "в трех метрах слева" от куста. Шон Спайсер находится "позади" куста. Это означает, что пространство не может существовать независимо от вещей, которые оно соединяет. По Лейбницу, если бы ничего не существовало, то не могло бы быть никаких пространственных отношений. Если бы наша Вселенная была уничтожена, пространства бы не существовало.
В отличие от него, абсолютист Кларк утверждал, что пространство - это некая субстанция, которая находится везде. Пространство - это гигантский контейнер, содержащий все вещи во Вселенной: звезды, планеты, нас. Пространство позволяет нам понять, как вещи перемещаются из одного места в другое, как вся наша материальная вселенная может перемещаться в пространстве. Более того, Кларк утверждал, что пространство божественно: пространство - это присутствие Бога в мире. В некотором смысле, пространство и есть Бог. По мнению Кларка, если бы наша вселенная была уничтожена, пространство осталось бы. Как нельзя удалить Бога, так нельзя удалить и пространство.
Письма Лейбница-Кларка взорвали мысль начала XVIII века. Такие мыслители, как Ньютон, которые уже были вовлечены в дебаты, были втянуты в них еще глубже. Ньютон утверждал, что пространство - это нечто большее, чем отношения между материальными объектами. Он утверждал, что оно является абсолютной сущностью, что все движется относительно него. Это привело к различию между "относительным" и "абсолютным" движением. Земля движется относительно других материальных объектов, таких как Солнце, но она также движется абсолютно - относительно пространства.
Другие присоединились к этой партии позже, например, Иммануил Кант. Он считал, что пространство - это всего лишь концепция, которую люди используют для осмысления мира, а не реальная сущность. Не только философы и физики имели свои взгляды на космос. Свое мнение высказывали самые разные люди, от производителей чулок до фермеров-арендаторов.
Люди особенно остро реагировали на мнение Кларка о том, что пространство - это Бог. Значит ли это, что мы все время движемся сквозь Бога? Бог не просто все видит, он везде? Их также беспокоили Большие вещи. Если кит занимает больше места, чем святой человек, то является ли кит более святым? Поскольку горы такие большие, похожи ли они на Бога?

Я думаю, что могу быть гедонистом. Представляете, как я нюхаю кокаин через стодрублевые купюры, в одной руке бокал шампанского, а другой ласкаю упругое бедро незнакомки? Прежде чем вы сурово осудите меня, я знаю, что у гедонизма плохая репутация, но, возможно, пришло время пересмотреть свои взгляды.
Что если вместо гарантированной дороги к разорению гедонизм полезен для здоровья? Если рассматривать гедонизм как намеренное наслаждение простыми удовольствиями - такими как игра в опавших листьях, моменты общения с друзьями или объятия с собакой, - то, вероятно, так оно и есть. Поиск и максимизация этих видов удовольствий может укрепить наше здоровье и благополучие.
Откуда же взялись наши представления о гедонизме и как мы можем использовать гедонизм для улучшения нашего здоровья и качества жизни?
В широком смысле гедонист - это человек, который старается максимизировать удовольствие и минимизировать боль. Джордан Белфорт (в исполнении Леонардо Ди Каприо) в фильме "Волк с Уолл-стрит", вероятно, является популярным представлением о квинтэссенциальном гедонисте, поскольку его огромное богатство позволяет ему потакать своей ненасытной жажде всего приятного.

Но кое-что должно произойти до этого. Весь этот процесс основывается на жизненно важной, необходимой, драгоценной способности зародить эти идеи. И, к сожалению, мы очень мало говорим об этом творческом ядре науки: воображении того, какими могут быть невидимые структуры в мире.
Мы должны быть более открытыми в этом вопросе. Мне неоднократно доводилось слышать от школьников, что их оттолкнуло от науки то, "что там не было места для моего собственного творчества". Что же мы сделали для того, чтобы у них сложилось такое шаблонное представление о том, как работает наука?
Наука и поэзия
Биолог XX века Питер Медавар был одним из немногих авторов последнего времени, кто вообще обсуждал роль творчества в науке. Он утверждал, что мы тихо стыдимся этого, потому что имагинативная фаза науки вообще не имеет "метода".
Медавар столь же критично относится к легкомысленным сравнениям научного творчества с источниками художественного вдохновения. Потому что в то время, как источники художественного вдохновения часто передаются - "путешествуют" - научное творчество в значительной степени является частным. Ученые, утверждает он, в отличие от художников, не делятся своими предварительными фантазиями или моментами вдохновения, а только отшлифованными результатами завершенных исследований.
Что, если Медавар прав. По большому счету поэты по-прежнему не пишут о науке. Наука также не является "объектом созерцания", как выразился историк Жак Барзун. Однако те немногие ученые, которые рассказывали о своем опыте формулировки новых идей, не сомневаются в его созерцательной и творческой сущности. Эйнштейн в своей книге "Эволюция физики", написанной совместно с физиком Леопольдом Инфельдом: “Воображение важнее знаний. Знания ограничены. Воображение охватывает весь мир.”
Истории о творчестве
Я попросил знакомых мне ученых рассказать не только о результатах своих исследований, но и о том, как они к ним пришли. В качестве своего рода "контрольного эксперимента" я проделал то же самое с поэтами, композиторами и художниками.
Я читал рассказы о творчестве в математике, написании романов, искусстве, а также участвовал в двухдневном семинаре по творчеству с физиками и космологами. Философия, от средневековой до феноменологии 21-го века, может многое добавить.
Из всех этих историй возник другой способ думать о том, чего достигает наука и где она находится в нашей долгой человеческой истории - не только как путь к знаниям, но и как созерцательная практика, которая удовлетворяет человеческие потребности, дополняя искусство или музыку. Прежде всего, я не мог отрицать, что личные истории создания нового тесно примыкают друг к другу, будь то попытка создать серию произведений искусства из смешанных материалов, отражающих страдания войны, или желание узнать, какое астрономическое событие привело к появлению беспрецедентных рентгеновских и радиосигналов.
Общий контур повествования о мелькающей и желаемой цели, борьбе за ее достижение, переживании ограничений и тупиков, и даже загадочные моменты "ага", которые говорят о скрытых и подсознательных процессах мышления, выбирающих свои моменты для передачи в наше сознание - все это история, общая как для ученых, так и для художников.
Возникли три "способа" воображения, которыми пользуются и наука, и искусство: визуальный, текстовый и абстрактный. Мы мыслим картинками, словами и абстрактными формами, которые мы называем математикой и музыкой. Для меня становится все более очевидным, что разделение "двух культур" между гуманитарными и естественными науками - это искусственное изобретение конца 19 века. Возможно, лучший способ решить эту проблему - просто игнорировать ее и начать больше разговаривать друг с другом.

Это первый пункт Хартии сострадания. Хартия была разработана в 2008 году под руководством Карен Армстронг, бывшей монахини. Она использовала средства, полученные от премии за лучший доклад на TED в 2008 году, для создания международной рабочей группы по разработке хартии.
В 2010 году австралийский парламент стал первым парламентом в мире, признавшим Хартию сострадания.
Учитывая политический подход, выработанный сменявшими друг друга австралийскими правительствами к людям, ищущим убежища в этой стране, кажется, что проще подписать такие документы, чем воплотить в жизнь принципы, лежащие в их основе.
Сегодня более 270 городов и сообществ по всей Азии, Европе, Канаде, США и Африке (включая Мельбурн и Сидней) используют хартию для построения нового видения своего общества. Движимые древним и универсальным "золотым правилом" - относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, - сообщества людей по всему миру берут на себя обязательства сделать сострадание движущей силой, оказывающей заметное влияние на жизнь общества и на благополучие всех его членов.
Техническая поддержка проекта ВсеТут