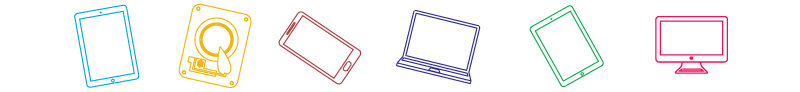Можно надеяться, что хорошие аргументы в конце концов вытеснят плохие, что Тимоти Уильямсон называет "обратным аналогом закона Грешема", и можно желать (почти?) полной свободы для идей и аргументов, а не подавления потенциально ценных из них.
К сожалению, для того чтобы хорошие аргументы победили плохие, нужны честность и усилия.
Уильямсон о философии и науке
В такой области, как философия, обратный аналог закона Грешема может оказаться слишком оптимистичным, как считает Уильямсон.
Уильямсон отмечает, что очень часто философ глубоко заинтересован в том, чтобы правильным был один ответ, а не другой. Поэтому он может быть предрасположен к тому, чтобы принимать одни аргументы и отвергать другие. Если уровень неясности в конкретной области дискуссии высок (как это почти всегда бывает в философских спорах), то "принятие желаемого за действительное может оказаться более сильным, чем способность отличить хорошие аргументы от плохих". Настолько, "что сближение в оценке аргументов никогда не произойдет".
Уильямсон высказывает убедительную точку зрения. Частично кажущийся неразрешимым диссенсус в философии обусловлен мотивированными рассуждениями о проблемах. В сочетании: 1) сильных предпочтений в пользу определенных выводов и 2) очень широкой свободы для разногласий по поводу доказательств и аргументов.
Это позволяет объяснить, почему многие философские разногласия представляются в практических целях неразрешимыми. В таких случаях соперничающие философские теории могут становиться все более изощренными, но ни одна из них не может одержать окончательную победу над своими соперниками. В результате философское исследование не приходит к надежным выводам. Своеобразный прогресс может быть, но не такой, как в естественных науках.
Для сравнения Уильямсон представляет себе сложный научный спор. Две конкурирующие теории могут иметь убежденных сторонников, "потративших много времени, энергии и эмоций", и только экспериментальные навыки высокого порядка могут решить, какая из теорий верна. Если стандарты соответствующего научного сообщества достаточно высоки с точки зрения добросовестности и точности, то истина в конце концов восторжествует. Но если научное сообщество будет чуть более терпимо к тому, что Уильямсон называет "неряшливостью и риторической запутанностью", то обе конкурирующие теории могут существовать бесконечно долго, и ни одна из них никогда не будет окончательно опровергнута.
Все, что требуется для того, чтобы все пошло не так, - это чуть меньше заботы о защите образцов от примесей, чуть больше готовности к принятию гипотез ad hoc, чуть больше оперативности в отбрасывании противоположных аргументов как сомнительных. "Небольшая разница в том, насколько тщательно применяются стандарты, может привести к большой разнице между сближением и расхождением", - говорит он.
По мнению Уильямсона, мораль этой истории заключается в том, что философия имеет больше шансов на прогресс, если философы будут строже и требовательнее к себе, а также если они будут открыты для того, чтобы ошибаться. Многие философские работы, по его мнению, некачественны, расплывчаты, нетерпеливы и небрежны в проверке деталей.
Она может быть защищена от опровержения с помощью таких риторических приемов, как "претенциозность, аллюзивность, гномическая лаконичность или выигрышная неформальность". Уильямсон предпочитает философию терпеливую, точную, строго аргументированную и тщательно объясняемую, даже если она рискует показаться скучной или педантичной. По его словам, "педантизм - это недостаток правой стороны".
Стремление к философии
Я думаю, что в этом есть что-то - элемент истины в анализе Уильямсона. Конечно, работа, за которую он ратует, может оказаться труднодоступной для широкой образованной публики (хотя любые трудности стиля будут обусловлены реальной сложностью предмета, а не попыткой произвести впечатление ослепительным исполнением).
Не исключено также, что существуют и другие, более глубокие проблемы философии, которые тормозят ее развитие. Тем не менее, для этой дисциплины характерны эмоциональные вложения во многие предлагаемые выводы, а также особенности, позволяющие эмоционально мотивированным аргументаторам легко уходить от опровержения.
Если мы хотим добиться более очевидного прогресса в философии, то нам следует попытаться противостоять этим факторам. Как минимум, это предполагает готовность ошибаться и менять свое мнение. Это означает, что нам следует избегать блеска, риторики, общей неряшливости и защиты от расплывчатых и двусмысленных утверждений.
Все это может быть непросто. Даже при самых благих намерениях мы часто не сможем соответствовать самым высоким стандартам, но мы можем хотя бы попытаться это сделать. Несовершенство неизбежно, но мы не должны потакать своим желаниям защищать эмоционально любимые теории. Мы можем стремиться к чему-то лучшему.
Политика, интеллектуальная честность и дискуссия на публичной площади
В современной демократии есть одна очевидная область дискуссии, где интеллектуальная строгость, которую Уильямсон превозносит, считая ее преобладающей в науке и достойной стремления философов, практически не находит поддержки. Я имею в виду претензии, предъявляемые соперниками в демократической партийной политике.
Здесь цель, как правило, состоит в том, чтобы выжить и победить любой ценой. Идеи защищаются с помощью неряшливости, риторики и даже откровенного искажения фактов, а оппоненты рассматриваются как враги, которых надо победить. Чистота следования "линии партии" часто навязывается, а внутренние инакомыслящие рассматриваются как еретики. Слишком часто считается, что они заслуживают самого пристального, микроскопического и постыдного внимания. Это может вылиться в остракизм, организованную клевету и другие наказания.
Это явно не рецепт для поиска истины. Какие бы провалы в интеллектуальной нечестности ни демонстрировали философы, они, как правило, очень незаметны по сравнению с теми, которые проявляются в ходе партийной политической борьбы.
Я сомневаюсь, что мы можем существенно изменить характер партийных политических дебатов, хотя мы, безусловно, можем призвать к большей интеллектуальной честности и к меньшим искажениям, порождаемым политическим манихейством. Даже выявление распространенности политического манихейства - и более широкое информирование о нем - уже достойное начало.
Значительно изменить характер партийных политических дебатов может быть трудно, поскольку эмоции очень сильны. Проигрыш может рассматриваться как социальная катастрофа, и в ход идут всесторонние мировоззрения. По своей природе такие дебаты направлены на получение власти, а не на поиск истины. Политическая риторика обращена к сердцам и умам, но особенно к сердцам, массового электората. Она имеет неизбежную тенденцию к пропаганде.
В какой-то степени мы вынуждены мириться с жесткими, даже жестокими дебатами по партийным политическим вопросам. Однако, когда мы это делаем, мы, по крайней мере, можем признать это как исключительное явление, а не как образец для дебатов в других областях. Они не должны становиться шаблоном для более общих культурных и моральных дискуссий, или даже широко политических дискуссий, и мы вправе протестовать, если видим, что они становятся таковыми.
Это отвратительное зрелище, когда в партийной политике каждая сторона пытается снять с себя скальп - демонизировать оппонентов, опозорить их или представить в каком-то виде, заставить их, если это возможно, уйти с поста, - а не искать истину.
Еще более тревожное зрелище, когда широкая общественная дискуссия ведется примерно в том же ключе. Мы должны быть недовольны, когда журналисты, литературные и культурные критики, якобы серьезные блоггеры, ученые - и другие представители общественной культуры, не являющиеся партийными политиками, - подражают стандартам партийных политиков.
Если уж на то пошло, то наших политиков нужно подталкивать к более высоким стандартам. Но даже если это нереально, мы не обязаны брать их за образец для подражания. Вместо этого мы можем стремиться к стандартам заботы, терпения, строгости и честности. Мы можем не участвовать в ежедневных наездах, остракизме, клеветнических кампаниях и прочих тактиках, которые сводятся к снятию скальпов, а не к честному обсуждению проблем и разбору аргументов. Кроме того, мы можем искать способы поддержки людей, оказавшихся в изоляции и несправедливо подвергшихся нападкам.
Высокие стандарты
Во время выборов мы можем быть вынуждены голосовать за ту или иную политическую партию, а можем и вовсе не голосовать (формально). Но в остальной жизни мы часто можем отстраниться от суждений по действительно сложным вопросам. Мы можем серьезно относиться к аргументам интеллектуальных оппонентов и вырабатывать взгляды, не совпадающие ни с одной из имеющихся на сегодняшний день готовых точек зрения.
Проще говоря, мы можем думать самостоятельно по вопросам философских, моральных, культурных и политических разногласий. Важно, что мы можем поощрять других делать то же самое, а не пытаться наказывать их за несогласие с нами.
Партийные политики необходимы, или, по крайней мере, они лучше, чем любые очевидные альтернативы (наследственные деспоты, например?). Но они никогда не должны рассматриваться как пример для подражания остальным.
Тимоти Уильямсон требует чрезвычайно высоких интеллектуальных стандартов, которые могут быть не вполне достижимы даже в рамках философии, не говоря уже о широкой общественной дискуссии. Однако мы можем стремиться к чему-то подобному, а не потакать худшим - племенным и манихейским - альтернативам.

Можно подумать, что физики "решили" проблему пространства. Математик Герман Минковский и физик Альберт Эйнштейн научили нас воспринимать пространство и время как единый континуум, что помогло нам понять, как движутся очень большие и очень маленькие объекты, такие как отдельные атомы. Тем не менее, мы так и не решили вопрос о том, что такое пространство. Если высосать всю материю из Вселенной, останется ли после этого пространство?
Физика двадцать первого века, вероятно, совместима с двумя очень разными представлениями о пространстве: "реляционизм" и "абсолютизм". Оба эти взгляда обязаны своей популярностью Каролине Ансбахской (1683-1737), королеве Великобритании немецкого происхождения, которая ввязалась в философские течения, бурлившие вокруг нее.
Каролина была увлеченным философом, и в начале XVIII века она задумала столкнуть между собой ведущие философские направления своей эпохи. На континенте философы застряли в "рационализме", размышляя над теориями мира, сидя в креслах. Тем временем британские философы развивали вдохновленный наукой "эмпиризм" - теории, построенные на наблюдениях. Они поклонялись таким ученым, как Роберт Бойль и Исаак Ньютон.
Каролина попросила двух философов обменяться письмами. Одним из них был немецкий философ Готфрид Лейбниц, рационалист первой величины. Другим был английский философ Самуэль Кларк, близкий друг Ньютона. Оба человека согласились, и их обмен мнениями был опубликован в 1717 году под названием "Собрание сочинений". Скучное название звучит не так уж громко, но эти работы были революционными. И одним из центральных вопросов в них был вопрос о природе пространства.
Все или ничего?
Есть ли пространство между звездами? Реляционист Лейбниц утверждал, что пространство - это пространственные отношения между объектами. Австралия находится "южнее" Сингапура. Дерево находится "в трех метрах слева" от куста. Шон Спайсер находится "позади" куста. Это означает, что пространство не может существовать независимо от вещей, которые оно соединяет. По Лейбницу, если бы ничего не существовало, то не могло бы быть никаких пространственных отношений. Если бы наша Вселенная была уничтожена, пространства бы не существовало.
В отличие от него, абсолютист Кларк утверждал, что пространство - это некая субстанция, которая находится везде. Пространство - это гигантский контейнер, содержащий все вещи во Вселенной: звезды, планеты, нас. Пространство позволяет нам понять, как вещи перемещаются из одного места в другое, как вся наша материальная вселенная может перемещаться в пространстве. Более того, Кларк утверждал, что пространство божественно: пространство - это присутствие Бога в мире. В некотором смысле, пространство и есть Бог. По мнению Кларка, если бы наша вселенная была уничтожена, пространство осталось бы. Как нельзя удалить Бога, так нельзя удалить и пространство.
Письма Лейбница-Кларка взорвали мысль начала XVIII века. Такие мыслители, как Ньютон, которые уже были вовлечены в дебаты, были втянуты в них еще глубже. Ньютон утверждал, что пространство - это нечто большее, чем отношения между материальными объектами. Он утверждал, что оно является абсолютной сущностью, что все движется относительно него. Это привело к различию между "относительным" и "абсолютным" движением. Земля движется относительно других материальных объектов, таких как Солнце, но она также движется абсолютно - относительно пространства.
Другие присоединились к этой партии позже, например, Иммануил Кант. Он считал, что пространство - это всего лишь концепция, которую люди используют для осмысления мира, а не реальная сущность. Не только философы и физики имели свои взгляды на космос. Свое мнение высказывали самые разные люди, от производителей чулок до фермеров-арендаторов.
Люди особенно остро реагировали на мнение Кларка о том, что пространство - это Бог. Значит ли это, что мы все время движемся сквозь Бога? Бог не просто все видит, он везде? Их также беспокоили Большие вещи. Если кит занимает больше места, чем святой человек, то является ли кит более святым? Поскольку горы такие большие, похожи ли они на Бога?

Я думаю, что могу быть гедонистом. Представляете, как я нюхаю кокаин через стодрублевые купюры, в одной руке бокал шампанского, а другой ласкаю упругое бедро незнакомки? Прежде чем вы сурово осудите меня, я знаю, что у гедонизма плохая репутация, но, возможно, пришло время пересмотреть свои взгляды.
Что если вместо гарантированной дороги к разорению гедонизм полезен для здоровья? Если рассматривать гедонизм как намеренное наслаждение простыми удовольствиями - такими как игра в опавших листьях, моменты общения с друзьями или объятия с собакой, - то, вероятно, так оно и есть. Поиск и максимизация этих видов удовольствий может укрепить наше здоровье и благополучие.
Откуда же взялись наши представления о гедонизме и как мы можем использовать гедонизм для улучшения нашего здоровья и качества жизни?
В широком смысле гедонист - это человек, который старается максимизировать удовольствие и минимизировать боль. Джордан Белфорт (в исполнении Леонардо Ди Каприо) в фильме "Волк с Уолл-стрит", вероятно, является популярным представлением о квинтэссенциальном гедонисте, поскольку его огромное богатство позволяет ему потакать своей ненасытной жажде всего приятного.

Но кое-что должно произойти до этого. Весь этот процесс основывается на жизненно важной, необходимой, драгоценной способности зародить эти идеи. И, к сожалению, мы очень мало говорим об этом творческом ядре науки: воображении того, какими могут быть невидимые структуры в мире.
Мы должны быть более открытыми в этом вопросе. Мне неоднократно доводилось слышать от школьников, что их оттолкнуло от науки то, "что там не было места для моего собственного творчества". Что же мы сделали для того, чтобы у них сложилось такое шаблонное представление о том, как работает наука?
Наука и поэзия
Биолог XX века Питер Медавар был одним из немногих авторов последнего времени, кто вообще обсуждал роль творчества в науке. Он утверждал, что мы тихо стыдимся этого, потому что имагинативная фаза науки вообще не имеет "метода".
Медавар столь же критично относится к легкомысленным сравнениям научного творчества с источниками художественного вдохновения. Потому что в то время, как источники художественного вдохновения часто передаются - "путешествуют" - научное творчество в значительной степени является частным. Ученые, утверждает он, в отличие от художников, не делятся своими предварительными фантазиями или моментами вдохновения, а только отшлифованными результатами завершенных исследований.
Что, если Медавар прав. По большому счету поэты по-прежнему не пишут о науке. Наука также не является "объектом созерцания", как выразился историк Жак Барзун. Однако те немногие ученые, которые рассказывали о своем опыте формулировки новых идей, не сомневаются в его созерцательной и творческой сущности. Эйнштейн в своей книге "Эволюция физики", написанной совместно с физиком Леопольдом Инфельдом: “Воображение важнее знаний. Знания ограничены. Воображение охватывает весь мир.”
Истории о творчестве
Я попросил знакомых мне ученых рассказать не только о результатах своих исследований, но и о том, как они к ним пришли. В качестве своего рода "контрольного эксперимента" я проделал то же самое с поэтами, композиторами и художниками.
Я читал рассказы о творчестве в математике, написании романов, искусстве, а также участвовал в двухдневном семинаре по творчеству с физиками и космологами. Философия, от средневековой до феноменологии 21-го века, может многое добавить.
Из всех этих историй возник другой способ думать о том, чего достигает наука и где она находится в нашей долгой человеческой истории - не только как путь к знаниям, но и как созерцательная практика, которая удовлетворяет человеческие потребности, дополняя искусство или музыку. Прежде всего, я не мог отрицать, что личные истории создания нового тесно примыкают друг к другу, будь то попытка создать серию произведений искусства из смешанных материалов, отражающих страдания войны, или желание узнать, какое астрономическое событие привело к появлению беспрецедентных рентгеновских и радиосигналов.
Общий контур повествования о мелькающей и желаемой цели, борьбе за ее достижение, переживании ограничений и тупиков, и даже загадочные моменты "ага", которые говорят о скрытых и подсознательных процессах мышления, выбирающих свои моменты для передачи в наше сознание - все это история, общая как для ученых, так и для художников.
Возникли три "способа" воображения, которыми пользуются и наука, и искусство: визуальный, текстовый и абстрактный. Мы мыслим картинками, словами и абстрактными формами, которые мы называем математикой и музыкой. Для меня становится все более очевидным, что разделение "двух культур" между гуманитарными и естественными науками - это искусственное изобретение конца 19 века. Возможно, лучший способ решить эту проблему - просто игнорировать ее и начать больше разговаривать друг с другом.

Это первый пункт Хартии сострадания. Хартия была разработана в 2008 году под руководством Карен Армстронг, бывшей монахини. Она использовала средства, полученные от премии за лучший доклад на TED в 2008 году, для создания международной рабочей группы по разработке хартии.
В 2010 году австралийский парламент стал первым парламентом в мире, признавшим Хартию сострадания.
Учитывая политический подход, выработанный сменявшими друг друга австралийскими правительствами к людям, ищущим убежища в этой стране, кажется, что проще подписать такие документы, чем воплотить в жизнь принципы, лежащие в их основе.
Сегодня более 270 городов и сообществ по всей Азии, Европе, Канаде, США и Африке (включая Мельбурн и Сидней) используют хартию для построения нового видения своего общества. Движимые древним и универсальным "золотым правилом" - относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, - сообщества людей по всему миру берут на себя обязательства сделать сострадание движущей силой, оказывающей заметное влияние на жизнь общества и на благополучие всех его членов.
Техническая поддержка проекта ВсеТут