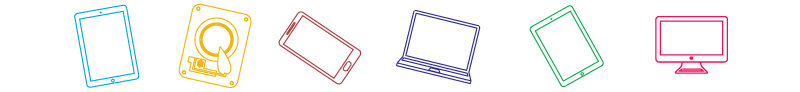В цикле статей "О счастье" было отмечено, что стремление к счастью ради него самого может быть бесполезным и даже контрпродуктивным занятием. Также отмечалось, что счастье, как бы оно ни было важно для нас, является лишь полезным побочным эффектом эвдаймонического подхода к поиску смысла жизни. Я во многом согласен с этими взглядами.
Но что именно означает иметь смысл жизни? Позитивная психология (с ее акцентом на генерировании положительных эмоций) и экзистенциализм (с его акцентом на философском примирении с трагедиями жизни) представляют собой полезные контрапункты для исследования спектра радостных и горестных эмоций, в которых мы, люди, ищем смысл и самореализацию. Эти контрапункты создают творческое напряжение для многих статей о счастье в целом.
Но каким именно образом "смысл" может стать мостом между двумя противоположностями в нашей жизни - печалью и счастьем?
Соединение "точек"
Если соединить точки, полученные в различных областях исследований счастья и благополучия, то окажется, что существует один общий знаменатель того, что, по мнению людей разных культур, рас и религий, дает им значимое счастье: это то, что они являются чем-то для других.
Конечно, то, что является для нас значимым, может быть очень индивидуальным, субъективным и зависящим от культуры. Но в большинстве определений общим является элемент ощущения взаимосвязи с кем-то или чем-то помимо себя и, что не менее важно, ощущение того, что человек способен внести свой вклад в эти связи. Это может быть вклад в семью, друзей, общество, окружающую среду или дело.
То, что мы, люди, называем значимым в своей жизни, чаще всего содержит элемент возможности отдать себя кому-то или чему-то помимо себя. Исследования показывают, что отдача, или вклад, помимо себя, является одним из самых сильных предикторов повышения уровня счастья и здоровья.
Личное удовольствие не стоит сбрасывать со счетов, но наличие в нашей жизни значимой отдачи обеспечивает самый высокий уровень счастья и здоровья. Когда мы отдаем другим, мы испытываем более высокий и значимый уровень счастья. Кроме того, мы более устойчивы перед лицом невзгод и быстрее восстанавливаемся после травмирующих событий.
Быть или не быть - вопрос не в этом
Осознавая, что отдача или вклад в других людей обеспечивает нам устойчивое и подлинное счастье, мы также понимаем, что, за исключением нескольких глубоких мыслителей на протяжении всей истории человечества (например, Сократа и Аристотеля), это очень простое, но мощное понимание часто кажется "недостающим звеном" во многих попытках ответить на некоторые из наших самых глубоких вопросов, таких как "в чем смысл существования?", "в чем смысл жизни?", "что такое хорошая жизнь?" и т.д.
Например, экзистенциалисты, унаследовавшие в значительной степени от Сёрена Кьеркегора и Фридриха Ницше, часто утверждают, что либо религиозная вера, либо самоопределение являются средствами, с помощью которых мы достигаем смысла нашей жизни.
Однако, когда речь идет о создании индивидуального и коллективного благополучия, обе позиции в конечном счете зависят от лежащей в их основе философии "быть добрыми друг к другу". Только в случае применения этого аспекта две другие позиции, по крайней мере, с гуманистической точки зрения, могут полностью реализовать свой потенциал.
"Вера" и "самоопределяющиеся цели" могут легко стать фундаменталистскими или эгоистическими, если они не связаны с подлинной социальной заботой о целом. Другими словами, быть или не быть религиозным (элемент веры), создавать или не создавать свою историю жизни (элемент самоопределения) - это не самый главный вопрос, который мы можем задать, если мы хотим жить более здоровой, счастливой и осмысленной жизнью. Отдавать или не отдавать - вот в чем вопрос.
Позитивная психология часто (но не всегда) фокусируется на создании положительных эмоций. Экзистенциализм, как правило, занимается тем, что делает нас несчастными в жизни (горе, вина, трагедия), пытаясь примирить их с ощущением того, что жизнь все еще стоит того, чтобы ее прожить.
Обе позиции важны для изучения спектра человеческих эмоций и жизни. Однако, как представляется, за пределами "счастья" или "печали" стоит отдавать. Только проявляя щедрость по отношению друг к другу, мы сможем полностью реализовать свой человеческий потенциал для достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Потребность в (новой) философии и науке дарения
Дарение может установить связь между подлинностью, которую экзистенциалисты часто отстаивали как средство обретения смысла жизни, и моральным и рациональным мышлением, которое они при этом часто осуждали.
Иными словами, если отдача, или подлинная социальная забота - как бы мы ее ни называли - является наиболее ценным измерением, с помощью которого мы измеряем смысл нашей жизни, то мы вдруг осознаем, что рациональность или какие-либо моральные конструкции сами по себе не обладают достаточной объяснительной силой для понимания осмысленной и счастливой жизни.
Как уже отмечалось, моральные идеологии, если они не основаны на социальной заботе обо всех, могут быть губительны для индивидуального и коллективного благополучия. Точно так же "рациональность" может быть очень жестокой без подлинно человеческого измерения, как это видно на примере очень "эффективной" немецкой машины, породившей вторую мировую войну.
Таким образом, быть человеком в прямом смысле этого слова - то есть проявлять искреннюю социальную заботу обо всех - может быть наиболее подлинной "сущностью" нашего бытия. Это противопоставляется тому, что мы "выбираем быть кем угодно", что является другой мерой смысла, которую иногда применяют экзистенциалисты (и поп-культура).
И наоборот, при таком подходе усиливается связь между экзистенциальным абсурдом (я выбираю быть лошадью) и иррациональным и нечеловекоподобным поведением. Если щедрость, а не человек, как сказал бы Протагор, является более верным "мерилом всех вещей", то это, безусловно, ставит нас перед необходимостью исследовать щедрость в более коллективном и научном ключе, чем это было до сих пор, и применять сервисное понимание к нашим наиболее актуальным проблемам (как это пытаются сделать некоторые в области экономики и экологической устойчивости).
Одно можно сказать с уверенностью: если рассматривать альтруизм и щедрое поведение с точки зрения теории и практики, основанных на фактических данных, а не только с точки зрения идеологии и религии, то, по-видимому, они идеально подходят для формирования нейтральной почвы, на которой различные идеологии и религии могли бы найти общую цель и плодотворно сосуществовать.
Философия дарения может стать важным мостом не только между позитивной психологией и экзистенциализмом ("счастливым" или "печальным"), но и между экстремистскими взглядами, все еще присутствующими в нашем современном мире.

Можно подумать, что физики "решили" проблему пространства. Математик Герман Минковский и физик Альберт Эйнштейн научили нас воспринимать пространство и время как единый континуум, что помогло нам понять, как движутся очень большие и очень маленькие объекты, такие как отдельные атомы. Тем не менее, мы так и не решили вопрос о том, что такое пространство. Если высосать всю материю из Вселенной, останется ли после этого пространство?
Физика двадцать первого века, вероятно, совместима с двумя очень разными представлениями о пространстве: "реляционизм" и "абсолютизм". Оба эти взгляда обязаны своей популярностью Каролине Ансбахской (1683-1737), королеве Великобритании немецкого происхождения, которая ввязалась в философские течения, бурлившие вокруг нее.
Каролина была увлеченным философом, и в начале XVIII века она задумала столкнуть между собой ведущие философские направления своей эпохи. На континенте философы застряли в "рационализме", размышляя над теориями мира, сидя в креслах. Тем временем британские философы развивали вдохновленный наукой "эмпиризм" - теории, построенные на наблюдениях. Они поклонялись таким ученым, как Роберт Бойль и Исаак Ньютон.
Каролина попросила двух философов обменяться письмами. Одним из них был немецкий философ Готфрид Лейбниц, рационалист первой величины. Другим был английский философ Самуэль Кларк, близкий друг Ньютона. Оба человека согласились, и их обмен мнениями был опубликован в 1717 году под названием "Собрание сочинений". Скучное название звучит не так уж громко, но эти работы были революционными. И одним из центральных вопросов в них был вопрос о природе пространства.
Все или ничего?
Есть ли пространство между звездами? Реляционист Лейбниц утверждал, что пространство - это пространственные отношения между объектами. Австралия находится "южнее" Сингапура. Дерево находится "в трех метрах слева" от куста. Шон Спайсер находится "позади" куста. Это означает, что пространство не может существовать независимо от вещей, которые оно соединяет. По Лейбницу, если бы ничего не существовало, то не могло бы быть никаких пространственных отношений. Если бы наша Вселенная была уничтожена, пространства бы не существовало.
В отличие от него, абсолютист Кларк утверждал, что пространство - это некая субстанция, которая находится везде. Пространство - это гигантский контейнер, содержащий все вещи во Вселенной: звезды, планеты, нас. Пространство позволяет нам понять, как вещи перемещаются из одного места в другое, как вся наша материальная вселенная может перемещаться в пространстве. Более того, Кларк утверждал, что пространство божественно: пространство - это присутствие Бога в мире. В некотором смысле, пространство и есть Бог. По мнению Кларка, если бы наша вселенная была уничтожена, пространство осталось бы. Как нельзя удалить Бога, так нельзя удалить и пространство.
Письма Лейбница-Кларка взорвали мысль начала XVIII века. Такие мыслители, как Ньютон, которые уже были вовлечены в дебаты, были втянуты в них еще глубже. Ньютон утверждал, что пространство - это нечто большее, чем отношения между материальными объектами. Он утверждал, что оно является абсолютной сущностью, что все движется относительно него. Это привело к различию между "относительным" и "абсолютным" движением. Земля движется относительно других материальных объектов, таких как Солнце, но она также движется абсолютно - относительно пространства.
Другие присоединились к этой партии позже, например, Иммануил Кант. Он считал, что пространство - это всего лишь концепция, которую люди используют для осмысления мира, а не реальная сущность. Не только философы и физики имели свои взгляды на космос. Свое мнение высказывали самые разные люди, от производителей чулок до фермеров-арендаторов.
Люди особенно остро реагировали на мнение Кларка о том, что пространство - это Бог. Значит ли это, что мы все время движемся сквозь Бога? Бог не просто все видит, он везде? Их также беспокоили Большие вещи. Если кит занимает больше места, чем святой человек, то является ли кит более святым? Поскольку горы такие большие, похожи ли они на Бога?

Я думаю, что могу быть гедонистом. Представляете, как я нюхаю кокаин через стодрублевые купюры, в одной руке бокал шампанского, а другой ласкаю упругое бедро незнакомки? Прежде чем вы сурово осудите меня, я знаю, что у гедонизма плохая репутация, но, возможно, пришло время пересмотреть свои взгляды.
Что если вместо гарантированной дороги к разорению гедонизм полезен для здоровья? Если рассматривать гедонизм как намеренное наслаждение простыми удовольствиями - такими как игра в опавших листьях, моменты общения с друзьями или объятия с собакой, - то, вероятно, так оно и есть. Поиск и максимизация этих видов удовольствий может укрепить наше здоровье и благополучие.
Откуда же взялись наши представления о гедонизме и как мы можем использовать гедонизм для улучшения нашего здоровья и качества жизни?
В широком смысле гедонист - это человек, который старается максимизировать удовольствие и минимизировать боль. Джордан Белфорт (в исполнении Леонардо Ди Каприо) в фильме "Волк с Уолл-стрит", вероятно, является популярным представлением о квинтэссенциальном гедонисте, поскольку его огромное богатство позволяет ему потакать своей ненасытной жажде всего приятного.

Но кое-что должно произойти до этого. Весь этот процесс основывается на жизненно важной, необходимой, драгоценной способности зародить эти идеи. И, к сожалению, мы очень мало говорим об этом творческом ядре науки: воображении того, какими могут быть невидимые структуры в мире.
Мы должны быть более открытыми в этом вопросе. Мне неоднократно доводилось слышать от школьников, что их оттолкнуло от науки то, "что там не было места для моего собственного творчества". Что же мы сделали для того, чтобы у них сложилось такое шаблонное представление о том, как работает наука?
Наука и поэзия
Биолог XX века Питер Медавар был одним из немногих авторов последнего времени, кто вообще обсуждал роль творчества в науке. Он утверждал, что мы тихо стыдимся этого, потому что имагинативная фаза науки вообще не имеет "метода".
Медавар столь же критично относится к легкомысленным сравнениям научного творчества с источниками художественного вдохновения. Потому что в то время, как источники художественного вдохновения часто передаются - "путешествуют" - научное творчество в значительной степени является частным. Ученые, утверждает он, в отличие от художников, не делятся своими предварительными фантазиями или моментами вдохновения, а только отшлифованными результатами завершенных исследований.
Что, если Медавар прав. По большому счету поэты по-прежнему не пишут о науке. Наука также не является "объектом созерцания", как выразился историк Жак Барзун. Однако те немногие ученые, которые рассказывали о своем опыте формулировки новых идей, не сомневаются в его созерцательной и творческой сущности. Эйнштейн в своей книге "Эволюция физики", написанной совместно с физиком Леопольдом Инфельдом: “Воображение важнее знаний. Знания ограничены. Воображение охватывает весь мир.”
Истории о творчестве
Я попросил знакомых мне ученых рассказать не только о результатах своих исследований, но и о том, как они к ним пришли. В качестве своего рода "контрольного эксперимента" я проделал то же самое с поэтами, композиторами и художниками.
Я читал рассказы о творчестве в математике, написании романов, искусстве, а также участвовал в двухдневном семинаре по творчеству с физиками и космологами. Философия, от средневековой до феноменологии 21-го века, может многое добавить.
Из всех этих историй возник другой способ думать о том, чего достигает наука и где она находится в нашей долгой человеческой истории - не только как путь к знаниям, но и как созерцательная практика, которая удовлетворяет человеческие потребности, дополняя искусство или музыку. Прежде всего, я не мог отрицать, что личные истории создания нового тесно примыкают друг к другу, будь то попытка создать серию произведений искусства из смешанных материалов, отражающих страдания войны, или желание узнать, какое астрономическое событие привело к появлению беспрецедентных рентгеновских и радиосигналов.
Общий контур повествования о мелькающей и желаемой цели, борьбе за ее достижение, переживании ограничений и тупиков, и даже загадочные моменты "ага", которые говорят о скрытых и подсознательных процессах мышления, выбирающих свои моменты для передачи в наше сознание - все это история, общая как для ученых, так и для художников.
Возникли три "способа" воображения, которыми пользуются и наука, и искусство: визуальный, текстовый и абстрактный. Мы мыслим картинками, словами и абстрактными формами, которые мы называем математикой и музыкой. Для меня становится все более очевидным, что разделение "двух культур" между гуманитарными и естественными науками - это искусственное изобретение конца 19 века. Возможно, лучший способ решить эту проблему - просто игнорировать ее и начать больше разговаривать друг с другом.

Это первый пункт Хартии сострадания. Хартия была разработана в 2008 году под руководством Карен Армстронг, бывшей монахини. Она использовала средства, полученные от премии за лучший доклад на TED в 2008 году, для создания международной рабочей группы по разработке хартии.
В 2010 году австралийский парламент стал первым парламентом в мире, признавшим Хартию сострадания.
Учитывая политический подход, выработанный сменявшими друг друга австралийскими правительствами к людям, ищущим убежища в этой стране, кажется, что проще подписать такие документы, чем воплотить в жизнь принципы, лежащие в их основе.
Сегодня более 270 городов и сообществ по всей Азии, Европе, Канаде, США и Африке (включая Мельбурн и Сидней) используют хартию для построения нового видения своего общества. Движимые древним и универсальным "золотым правилом" - относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, - сообщества людей по всему миру берут на себя обязательства сделать сострадание движущей силой, оказывающей заметное влияние на жизнь общества и на благополучие всех его членов.
Техническая поддержка проекта ВсеТут